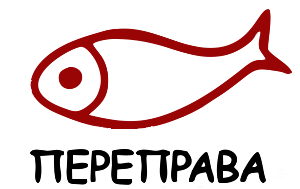- Ники, правда же, хороший старичок! - говорю ему, когда мы уже вернулись в комнату и собираемся ложиться спать.
- Да, хорошо, что он не сказал: «Корми дочку, батюшка, а то исхудала она у тебя», - с насмешкой произнес Николай, что-то ища в раскрытом чемодане.
- Видишь, ты еще не так старо выглядишь, - залилась я смехом. Николай ничего не отвечал, сделав вид, что очень занят.
- Ну, если вы такой обидчивый, Николай Михайлович, то я желаю вам приятных сновидений.
Я выключаю свет над своей кроватью, заворачиваюсь в одеяло с головой и стараюсь заснуть, а сама жду, когда Николай подойдет и поцелует меня на ночь. Но он берет со стола книгу, ложится, доски на его кровати скрипят, он выключает свет и читает при лампаде. Молюсь про себя, чтобы Бог простил наши глупости, и мы бы не поссорились, и через какое-то время засыпаю.
Уже глубокой ночью вдруг открываю глаза оттого, что кто-то прикоснулся к моему лбу теплыми губами и накрыл меня чем-то поверх одеяла. Нащупываю пальцами металлические пуговицы шинели, улыбаюсь, и снова впадаю в глубокий сон, а в голове только одно: «Спасибо, Господи!».
Перед заутреней в дверь тихо стучит гостиничный, отец Михаил. В монастыре разносятся удары будильного колокола. Мы наскоро приводим себя в порядок, потому что перед работами еще будет время зайти в комнату. Собираю волосы и, глядя на Николая, не удержавшись, произношу, как я люблю его. Он вспоминает разговор с игуменом Парфением и напоминает мне его фразу, что так, как он сам любит меня, никто меня больше любить не будет. Он помогает мне, и уже скоро мы спускаемся по крутым лестницам гостиницы и вместе с другими паломниками спешим на заутреню.
Утренняя служба, особенно зимой, когда во время всенощной и в пять часов, во время заутрени, еще темно, - как-то особенно влияет на все твое существо. Вокруг ночь, а в тебе уже пробуждается какой-то огонек, как будто отражается от церковных свечей, как отражаются от них святые лики в золотых окладах. Хор поет все громче и громче, голоса отталкиваются от беленых и расписанных стен, устремляются ввысь, сквозь открытые двери уносятся вдаль и растворяются в холоде пробуждающегося острова. Твой собственный голос сливается с голосами певчих и тоже разносится по святому храму и святой земле.
Когда мы возвращаемся обратно в гостиницу, дует холодный ветер – Валаам проснулся и сбрасывает с себя тонкую пелену снега. Я замерзла и снова ложусь в постель, чтобы согреться, укутавшись в одеяло, а уже потом собираться и идти на послушание. Смотрю, как Николай набрасывает свою шинель, машинально осматривает сапоги, и вспоминаю, как раньше офицеры должны были шить себе форму на заказ сами, несколько комплектов: золотые пуговицы, лакированные ремни, золоченные или посеребренные аксельбанты, золоченные привязные шпоры на сапогах, погоны из приборного сукна, присвоенного части, с выпушкой или без, с галуном по цвету металлического прибора, различающегося по чинам, а также золотое или серебряное вензелевое изображение Имени Государя Императора… Потому и служили только дворяне, на форму уходило слишком много средств. От великих предков Николаю достались и форма лейб-гвардии Казачьего Его Величества, а также кавалергардских и кирасирских полков. Его военная форма - парадная и повседневная в строю и вне строя; гражданская – заправленные в сапоги брюки и подпоясанная гимнастерка летом или мундир зимой. Я вспоминаю, что почти и не видела его в чем-нибудь другом. Разве только во время венчания он был в черном сюртуке, о чем я его настоятельно попросила. Помню, как он сердился, когда мы выбирали ему костюм, говорил, что только девицы могут заниматься такой ерундой, что его предки никогда бы не позволили производить над собой такого маскарада. Но я знаю, что сердился он тогда не на одежду, а на то, что ему все же пришлось подчиниться моему желанию. Он замечает на себе мой взгляд и оборачивается.
- Замерзла, сейчас я тебе чаю принесу, - он подходит ко мне, наклоняется и, смеясь, шепчет на ухо, - не дрожи, Наполеон.
И тяжелым шагом уходит.
А я ложусь под одеяло и думаю, почему если человек замерзнет, то это называется «болезнью Наполеона» ? Потому что Наполеон замерз и бежал из Москвы ? Потому что Наполеон был маленький ? Что же, Петр Первый или Николай Первый никогда не мерзли ? А умерли от простуды. Страшно великому человеку умереть от простуды. Сейчас вот он придет и это ему надо напиться чаю, надо найти шарф у себя в чемодане и повязать ему, у него же шея постоянно открыта… Мне кажется, что я уже поднимаюсь и ищу этот шарф, но это просто сон и я, согревшись, снова уснула…
Первое, что бросается в глаза, когда открываю их – большая чашка черного чаю. Тянусь к ней рукой и дотрагиваюсь – холодная. Тут же сажусь на кровати и одергиваю занавеску – на улице уже светит солнце, искрится, переливается чистый снег. А в голове одно: «Не разбудил! Почему не разбудил ?». На полу около кровати стоят валенки с галошами – наверно Николай их тоже принес, потому что думал, что я сегодня же и отправлюсь к Феодору, а в другой обуви по сугробам Валаама в его пустынь никак не доберешься. Я ловлю себя на каком-то сомнении, угрызении совести – старик сидит и ждет меня, как рассказывал отец Парфений, а я все отдаляю момент нашей встречи. Почему ? Кто-то сказал, что лучше не знать дня своей смерти, потому что каждый день своей жизни ты только и будешь думать об этом. А я знаю, что встреча со старцем изменит что-то во мне раз и навсегда, и такой как прежде, я от него уже не вернусь. Мне так много надо ему рассказать… Завтра, пойду к нему завтра. А сегодня может еще и вспомню что-то.
Такие мысли проносятся в голове пока собираюсь. Наконец, накинув поверх длинного зимнего платья черное пальто, ухожу, аккуратно поднимая подол на высокой лестнице гостиницы. На улице солнце, затянутое тонкой пеленой облаков, но от этого не менее искристое и жаркое. Поют птицы, стучат молотками на стройке, по монастырскому двору ходят монахи – кто-то спешит к игумену, кто-то на свои работы. Прибавляю шаг и направляюсь к пекарне. Но вот мое внимание привлекает огромная ровная стопка дров, а рядом, не меньшая, уже порубленных. На небольшом пеньке лежит топор и тоже как-то поблескивает на солнце, как будто радуется, что и он работает, и он помогает монахам. Спрятавшись сбоку от поленьев, высится фигура. Направляюсь туда. Он стоит спиной, а над головой все вздымается вверх пар, неровно, беспорядочно – греет замерзшие руки?
- Николенька, - дотрагиваюсь до его спины. Он как-то резко оборачивается, в его глазах на секунду пробегает удивление, а меня окутывает табачным дымом. Рука немного дрогнула, он молчит и вдруг резко тушит папиросу о ладонь и, нащупав карман, убирает ее.
- Последняя оставалась, - в его голосе нотки оправдания, которые так редко, но все же могу слышать только одна я. Сдерживаю себя, чтобы не рассмеяться. Беру чистый снег и очищаю с его ладони пепел.
- Почему ты не разбудил меня ?
- Когда за чаем пошел, то встретил отца Михаила. Он сказал, что тебе можно чуть позже прийти на работы, если устала.
- А ты почему не на своих работах, а дрова колешь ? – улыбаюсь. Его лицо в ответ тоже как-то просияло, и улыбка пробежала по тонким губам.
- Иван поехал за кирпичом, а я вот его жду, потом пойдем укладывать.
- Да, я вижу, как ты его ждешь.
С лица Николая тут же сходит улыбка.
- Ну-ну, уж и замечания тебе не сделай. Я сама припозднилась, побегу, а то Василий заждался наверно. Надо же, после заутрени снова уснуть…
Я поправляю ему воротник, но Николай все стоит неподвижно. Тогда я аккуратно забираюсь на пенек, чтобы не задеть платьем лежащий топор и целую Ники в подбородок. Он обнимает меня, целует волосы и опускает обратно на снег.
- До вечера, - шепчу ему и, придерживая одной рукой длинный подол, бегу на послушания. Николай еще долго смотрит мне вслед, потом достает сломанную папиросу, недовольно вздыхает, убирает ее обратно в карман и по монастырскому двору снова разносится стук топора.
В пекарне уже стоит жар и пахнет свежим пресным хлебом. Сбрасываю при входе пальто, покрепче завязываю платок на голове и набрасываю чистый фартук. Монахи уже суетятся с огромными противнями, на столешницах лежат готовые румяные буханки. Ищу Василья. Он в просфорной, работает около маленького окошка. Стекла покрыты инеем, солнце еле пробивается, но Василий даже и не смотрит на него, не любуется причудливым снежным узором. Он погружен в себя. Сильные, почерневшие от копоти руки раскатывают толстый пласт теста, про себя он шепчет молитву и благословляет будущие просфорки, которые будут розданы прихожанам после литургии. Также, в конце литургии можно получить и антидор, небольшие частицы просфоры, из которых во время проскомидии (поминовения усопших) был вынут Святой Агнец. Таинство Евхаристии и проскомидия совершенно особенны. Когда ты принимаешь Святые Тайны, целуешь нижний край чаши, а потом подходишь к столику, где раздают кусочки просфоры и разведенный теплой водой кагор, то чувствуешь, как душа твоя очищается. Иоанн Кронштадский говорил, что все мы моем лицо и тело, а уж как можно не омывать душу, постоянно, ежедневно оскверняемую грехами ? «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем». Одно из первых своих причастий, которое помню до сих – произвело на меня ощущение торжественности. Я тогда была совсем маленькая и чтобы принять Святые Тайны, меня подняли над толпой прихожан, и вокруг я увидела сотни разных лиц, застывших в спокойном и смиренном ожидании, под огромными сводами храма. Снизу смотрели люди, напротив смотрел и улыбался священник, а с расписанных стен старинного храма на меня смотрели святые и ангелы. Это ощущение парения во время таинства я никогда не забуду. Хотя, мне думается, что оно присутствует в каждом из них. Во время крещения меня опускали и поднимали над купелью со святой водой, во время миропомазания благоухающий аромат разносился по всей церкви, а во время нашего венчания ощущения счастья было и вовсе неземное.
Работа в просфорной духовно тяжелее, чем в пекарне. Каждая просфора несет в себе символическое значение, каждая будет вкушаема с благоговением. Даже ее приготовление несет в себе глубокий смысл. Она состоит из двух частей, которые изготавливаются отдельно одна от другой, а после соединяются друг с другом: как небо и земля, как земное и духовное начала в человеке. На верхней части просфоры ставится печать, что знаменует собой пребывание божественной благодати над плотью, в душе человека. Печати тоже изготавливаются на Валааме, из Валаамских деревьев, которые и сами постоянно тянутся вверх, к небу. А еще при приготовлении просфор в них добавляется святая вода, которая пропитывает собой все тесто. Удивительно, что делает просфоры сладкими ? Святая вода или любовь и молитва монахов-пекарей ? Василий говорил мне, что вера людей.
Василий – довольно высокий, с очень правильными чертами лицами, тонким прямым носом, бледной прозрачной кожей и всегда с удивительно ему идущим румянцем – от долгих работ в душном помещении. Когда Василий работает – это настоящий строгий инок, по первому взгляду на которого понимаешь, что он беззаветно посвятил себя служению церкви. Его губы всегда плотно сжаты, серые глаза смотрят строго перед собой и строго на послушников, которые работают. Мы не всегда придаем труду такое значение, какое придают монахи. Когда же работы заканчиваются, то человека радушнее него я мало где встречала. С губ почти не сходит улыбка и говорит он так хорошо, о жизни, о вере, о Боге. Я называю его своим братом, не в шутку, а потому что оно в действительности так и есть. Василий – мое отражение. Как-то раз он рассказал о своей жизни в миру, и я поняла, что мы похожи. Как он попал в монастырь ? Я спрашивала об этом Василья много раз и каждый раз в разговоре с ним, понимала, что меня снедает то же самое. Он тогда и посоветовал мне приехать к какому-нибудь старцу и выговориться ему. Прошел год, и я окончательно решилась.
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Я захожу в просфорную и приветствую работников. Василий, услышав знакомый голос, поворачивает голову и широко улыбается рядом ровных зубов. Я улыбаюсь в ответ и тихо, не мешая работе подхожу к нему.
- Сестрица! – он целует мои руки, а я смотрю и не перестаю удивляться его красоте. Вот уж и правда, что внешность телесная отражает духовную. Я в ответ целую его руку, которая пахнет сырым тестом и мукой, а сама хочу крепко обнять его. Но ничего, вот работы закончатся, пойдем к вечерне и обнимемся после долгой разлуки.
- Припозднилась я, Василий, - шепчу, а сама ополаскиваю руки в миске с чистой водой, вытираю их и жду, когда он укажет мне, что надо делать.
- Будешь мне сегодня помогать, сестрица! Ты у нас все помнишь, все делаешь быстро и аккуратно, правая рука моя! – он тихо смеется, а я посыпаю стол мукой, беру из кадки небольшое количество теста, скалку, тесто тоже чуть присыпаю сверху мукой, чтобы не прилипало, и мы с Васильем начинаем работать, иной раз переглядываясь и безмолвно благодаря Бога, что мы снова встретились.
- Очень хорошо, что меня послушала. Тем более Феодор прозорлив. Прошлого года вон помню приезжала к нему какая-то женщина, благодарила. Все потом ходила и рассказывала, как старец ей помог советом. Да и осенью этой, помнится, у него были… Он сам-то о своих делах молчит. Ты же знаешь, что добродетель безмолвна.
Мы идем с Васильем к вечерне и разговариваем.
- А тебе в монастырь все же не надо, - еле слышно, как будто про себя произносит он.
Я останавливаюсь и пристально смотрю на него. На губах невысказанное «почему?».
Колокол ударяет к вечерней службе. Среди торопящихся послушников и монахов стоит Николай. Он заметил нас и ждет, когда мы подойдем. Василий тоже замечает его. Николай кивает и улыбается. Василий слегка кланяется.
- Ибо сказано, да любите друг друга.
Он как-то мельком произносит это, задумчиво улыбается и тут же быстрым шагом направляется к храму. Василий поет в хоре. Я смотрю ему вслед, о чем-то задумываюсь и бегу к идущему мне навстречу Николаю.
- Не пошла сегодня к Феодору ? - спрашивает Николай, лежа на кровати и что-то черкая в своих бумагах. Вероятно, он отвлекся и его взгляд упал на стоящие около кровати валенки.
- Нет, завтра пойду.
Я расчесываю перед зеркалом мокрые волосы. Его вопрос как-то больно задевает меня. Стыдно признаться в этом даже себе, но весь сегодняшний день, даже во время работ я думала только о том, как приду к старцу, как он меня встретит, и что я ему буду рассказывать.
- Если хочешь, я могу пойти с тобой. Просто посижу рядом в келье.
- Нет, что ты! – слишком резко. – Нет, Ники, не беспокойся, я сама. Мне просто нужно с ним поговорить.
Николай молчит. Думает, что я от него что-то скрываю, если не хочу его присутствия. Он прекрасно знает, что со старцем надо говорить наедине. И знает, что у меня нет от него тайн. Но молчит. Что-то ожесточенно зачеркивает на бумаге.
- Николенька…
Он опускает листы. Я улыбаюсь, и он устало улыбается в ответ. Моя улыбка всегда обезоруживает его, перед ней он капитулирует.
- Ну, если ты завтра идешь к старцу, то мы с монахами отправимся во Всехсвятский скит, - возвращаясь ко своим бумагам.
Надо заметить, что Валаамский монастырь – мужской. Хотя каждый год он принимает много паломников обоего пола, а на реставрационных работах трудятся талантливые женщины-художники, есть на острове такие скиты, куда вход женщинам строго запрещается. Скит Всех Святых – именно такой. Я ни разу не была внутри него, хотя один день в году, на праздник Всех Святых он и открывает двери желающим. Всехсвятский - самый большой из всех скитов Валаама, но все как будто хочет спрятаться – зимой и вовсе только шатровая колокольня с черной крышей выделяется на бледном небе. Осенью же он выглядит особенно празднично – на широком дворе уже пожелтевшая трава, которая обнажает под собой кирпичную Валаамскую землю, грустные ели, опустившие свои редкие ветки, серое небо и мокрый от дождя воздух, а скит стоит белоснежный, чистый. Я немного завидую Николаю, ведь сколько раз я проходило мимо скитского двора и хотела приблизиться к этой строгой красоте…
Читаем на ночь Евангелие. Открылось от Иоанна, четырнадцатая глава: «Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите. И Аз умолю Отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами в век, Дух истины, егоже мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его: вы же знаете его, яко в вас пребывает. Не оставлю вас сиры: прииду к вам». «Мир оставляю вам, мир мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашается. Слышасте, яко Аз рек вам: иду от вас и приду к вам».
Ночью мне не спится. Думаю о Феодоре, Николае, о Валааме. Тихо встаю с кровати и опускаюсь перед иконами. Прочитав молитву, подхожу к спящему Николаю и сажусь на краешек кровати. Губы его плотно сжаты, а лоб слегка нахмурен. Наверно он даже во сне не отдыхает. Осторожно провожу ладонью по его щеке. Он не шевелится, а только редко и тяжело дышит. Я как будто запоминаю его. Отец Парфений запоминает послушников и монахов, а я запоминаю одного Николая, вот уже несколько лет. Беру его руку в свою и целую. А потом ложусь к себе, а в голове все: «иду от вас и приду к вам»… Спокойно засыпаю.
Утро пасмурное. Когда мы возвращались с заутрени, началась метель, а пока собирались, немного распогодилось, хотя солнце все еще не проглядывало сквозь пелену облаков. Мы выходим на монастырский двор, где Николая уже ждут несколько монахов, из которых я знаю только Андрея, помощника в трапезной. Тепло приветствую его и остальных, они меня благословляют и говорят, что им уже пора отправляться, чтобы успеть вернуться на свои работы засветло. Николай поправляет мне платок, целует в щеку и говорит, чтобы я была осторожна. Ничто в нем не выказывает беспокойства, но я знаю, как он боится меня отпускать одну; не потому, что со мной может что-то случиться или я заблужусь в лесу, а потому, что он чувствует, как я волнуюсь перед этой встречей. Уверяю его, что все в порядке, но улыбка выходит какой-то нервной. Он внимательно на меня смотрит, а потом уходит вслед за монахами и я знаю, что на душе у него тяжело. Я догоняю Николая, крепко его обнимаю, и заверяю еще раз, что все будет хорошо. Получается искренне и он, отряхнув с моих плеч мягкий падающий снежок, быстрым шагом направляется за уже ушедшими со двора монахами. Я направляюсь в другую сторону. Когда взбираюсь на пригорок, проваливаюсь в глубокий снег, он попадает в валенки. Выхожу на дорогу, отряхиваю платье и пальто. Еще несколько раз провалившись в глубокие сугробы, а где-то съехав с обледеневших овражков, добираюсь где-то через час до пустыньки отца Феодора. Сориентироваться на зимнем Валааме не так сложно. Достаточно выйти на проторенную дорожку и идти по ней, а стоит отклониться от нее в чащу и пройти еще некоторое время – выйдешь к пустыни какого-нибудь Валаамского старца или схимника. На Валааме существует три вида монастырской жизни: киновия – монастырское общежитие в Спасо-Преображенском монастыре, скиты – уединенные тихие обители, расположившиеся в разных частях острова и на окружающих его небольших островках, и третий вид – пустыни, скромные келейки, разбросанные по всему Валаамскому архипелагу. Я знаю, что Феодор живет недалеко от берега Ладоги, если идти на север, а потому, заслышав впереди журчание пробивающейся сквозь лед воды, ускоряю шаг. Вот и ветхая, чуть покосившаяся на один бок избушка. Несколько больших прямоугольных окон. Бревна старые и широкие, кое-где между ними широкие щели. Фундамент представляет из себя все те же бревна, только сложенные плотнее. Там где снег немного оттаял (значит, внутри на этом месте стоит маленькая печка), видно, что бревна почти прогнили и скорее всего зимой, а особенно в осеннюю непогоду в пустыньке сыро и влажно.
Мне приходится обойти избу, чтобы найти крыльцо. Завернув за угол, вдруг останавливаюсь и не могу сдвинуться с места. На дощатом крылечке сидит старик, повернул голову в мою сторону и внимательно смотрит. На нем одна тонкая ряса, превратившаяся со временем в какое-то подобие рубища, но вид его при этом аккуратный и чистый. Он сидит, а руки, сложенные в замок лежат на коленях. Старец Феодор. Серые, светлые глаза не моргают, он не переводит с меня пронзительного взгляда. Я делаю несколько шагов вперед, а потом падаю перед ним на колени, заливаюсь слезами и начинаю целовать его руки. Старец гладит мою голову и тихо говорит сам себе: «Пришла…пришла».
Про старца Феодора я узнала здесь же, на Валааме. Он живет на острове уже давно. Наверно он был там еще тогда, когда я впервые приезжала, в детстве, даже не подозревая, что судьба еще когда-нибудь позволит мне вновь посетить этот удивительный край, и не единожды. Казалось бы, прошло всего каких-то десять лет, а все так поменялось. Я приезжаю уже не как турист и приезжаю не одна, а со своим супругом. Я успела многое понять, научилась ждать за это время и еще много чему учусь. Казалось бы, что такое десять лет ? А с другой стороны, это целая жизнь. Чуть более десяти лет – наша разница с Николаем. Когда я только родилась, он уже со всей ответственностью готовился к избранному им жизненному пути. Когда я приезжала ребенком на остров, он проживал годы сомнения; теперь же и я вошла в этот возраст, только ни в чем не сомневаюсь. Мы два взрослых человека. А что же старец Феодор ? Немногим более этих десяти лет он прожил в браке со своей супругой, которую любил беззаветно и, казалось, ждал ее одну все свою жизнь. Но она умерла почти сразу после того, как подарила ему очаровательного сына. Феодор хотя и находился в глубоком трауре, но сам воспитывал ребенка, не надеясь ни на чью помощь. «Мало молился, в хлопотах и суете забыл о Боге», как сам он рассказывал отцу Парфению, а игумен передавал мне. Очаровательный мальчик умер. Но тут в жизни Феодора будто что-то переменилось. Не стал он искать себе другой жены, хотя был еще молод, не стал дни и ночи оплакивать ее и сына, а отправился в долгое паломничество по всей России, посещая монастыри, когда-то многочисленные, а теперь такие редкие, но оттого более намоленные. Сам он молился в попадавшихся ему по пути церквях, действующих и разрушенных; молился на пустырях, где людьми были организованы постройки жилых домов или поставлены монументы разорителям церквей и убийцам. Он выглядел как странник, сошедший со страниц той нашей литературы, которую не читали и не читают. Он ходил как призрак, и, казалось, что стоит только взглянуть на него, чтобы что-то вспомнить, опуститься подле на колени и начать горячо молиться. Кто знает, сколько бы людей он мог собрать вокруг себя ? Но он ходил один. Люди принимали его за блаженного и хохотали. «Дед, да ты из ума выжил! Иди еще в Кремле перед КГБэшным зданием грохнись, и будешь потом оставшуюся жизнь в келье ютиться». В Москве он действительно молился на Спасскую и Никольскую башни, а по ту сторону Спасских ворот читал молитву митрополиту Алексею. Никто ничего не понимал. Его не трогали, а просто смеялись. Это страшнее.
Потом Феодор добрался до Валаама. Его благоверная очень любила бывать здесь. Сам же Феодор никогда прежде не был на острове, но решил остаться именно на нем и уже навсегда. Почему ? Я читала, что человек умерший есть существо живое и его душа невидимо витает в местах, где любила пребывать. Феодор, скорее всего, это тоже читал. Может быть, все дело в горе и страданиях, которые он перенес (ведь, как известно, и они посылаются нам свыше), но на него снизошла Божья благодать, и старец сделался прозорлив. Многие приезжали на послушания, чтобы только встретиться со старцем, получить его благословение или напутствие. Феодор сам построил себе свою пустыньку, молился дни и ночи и часто засыпал стоя на коленях и сложив руки. В таком состоянии его нередко заставали монахи, которые приносили Феодору скромную трапезу. Он говорил монахам, чтобы они так не заботились о его плоти, не ходили к нему в непогоду и стужу, а молились бы о нем. Летом Феодор собирал недалеко от своей пустыньки какие-то корешки и сушил их на зиму. Если монахи приносили ему хлеб, то он съедал самую малость, а остальное превращалось в сухарь. Тогда Феодор спускался к Ладоге, набирал воды, размачивал в ней сухарь и довольствовался этим вполне. Вся жизнь этого человека представляла собой какое-то тихое и смиренное житие, перед которым ноги сами преклонялись. Феодор принимал не всех, кто желал с ним поговорить, но каждого благословлял. Придет к нему порой какой-нибудь человек, едет на Валаам специально, а Феодор и скажет ему: «Мало страдал. Иди в Божью церковь, там ответ найдешь». Человек уедет расстроенный, может даже по малодушию разозлиться на Феодора, а потом навестит монастырь через какое-то время и радостно рассказывает, как по приезде пошел в церковь, помолился и то, что казалось неразрешимым, как-то все само собой уладилось. Игумен много что рассказывал еще про старца… Решилась к нему ехать и я. Слова отца Парфения о том, что Феодор ждет меня – напугали. А что если я приду к нему, а он взглянет, скажет, что все это блажь и велит искать ответа там. Не выслушает. А ведь я уже и так искала, а теперь нужно высказать все… Такие сомнения пробегают в моей голове даже тогда, когда он гладит меня своей теплой рукой.
- Ну, ну, слезки-то Христовы. После них самая мучительнейшая, отчаянная болезнь сердца прекращается, грехом причиненная, выходит из сердца лукавый и убегает далеко. Остави его здесь, он от воздуха благодатного сам растворится, да и пойдем в келью. Долго нам разговаривать.
В келье тепло и сухо. Потрескивают в старенькой печке дрова, в уголке горит лампадка и горят несколько свечей. На небольшом деревянном столе подле окна лежит белая вязаная салфетка; он весь уставлен иконами. На прибитых дощечках возле кровати стоит почерневшая икона Божьей матери. Не знаю, почему мне в голову приходит такая мысль, но кажется, что эта икона была в руках жены старца, во время их венчания и с тех пор, особенно после смерти супруги он особенно дорожит именно ей. Ему наверно спокойно засыпать под умиленным ликом Богоматери. Я обратила внимание, что в келье нет книг и молитвенников, а только лежит на столике подле иконы потрепанное Евангелие. Молитвы Феодор помнит наизусть, а много книг на Валааме и не нужно, там своя мудрость. Василий как-то рассказывал мне, что монах-хранитель из библиотеки, узнав у бывавших у старца, что у того нет никакого духовного чтения, а по скромности своей натуры и по образу жизни, Феодор наверняка не решается о чем-то просить, передал с приносящими в пустыньку скромную трапезу несколько книг и житий. Когда монах скромно протянул ему их, то Феодор глянул мельком и сказал:
- Читал, читал уже, вот когда как ты был, такой же, тогда и читал. А ты не читал, бери себе, - а потом тихо улыбнулся. – Да и зрение уже не то, сыне, у отца твоего.
Странно, что никто до этого случая не задумывался, что у старца в силу его возраста и пережитых испытаний действительно здоровье уже не то. Убеждение же в его благословенной Богом прозорливости только усилилось.
Я сижу на двух широких досках, застеленных какой-то грубой тряпицей – здесь старец почивает. Сам же он сказал снять мне валенки и садиться ближе к печке. Пока я рассматриваю его светлую келейку, которая со стороны кажется ветхой, а внутри такой чистой, дышащей молитвою, Феодор подкладывает в печку дрова. Мне как-то неудобно, что он так суетится.
- К каждому относись почтительно, и к бедному и к богатому, и к монаху и к князю, и к незнакомому и к родному, - улыбаясь, говорит старец, и мне становится не страшно, а наоборот спокойно, оттого, что он так читает мысли. Я совсем согрелась, а отражающийся на иконках и в оконной раме огонек греет душу. Феодор садится напротив меня на простой деревянный табурет, а я хочу подняться и уступить ему свое место.
- Али не слышишь, что говорю тебе ? Равны мы с тобой, а ты что же это хочешь мне место уступить ? Может на мне греха больше, чем на тебе, а ты меня и вперед.
Старец добродушно усмехнулся.
- Или думаешь Бог на места на наши смотрит ? Нечего Ему смотреть, Сам нас по этим-то местам распределяет.
Хотя голос старца строг, но глаза как-то светятся от радости. Вообще весь его лик выражает собой какое-то добродушие и искренность. Борода и волосы, хотя и редки, но еще не седые. Возраст выдают разве что морщинки в уголках глаз, появившиеся там оттого, что старец часто улыбается или много улыбался тогда, когда был счастлив со своей семьей. Я бы не дала ему больше шестидесяти и мне думается, что Феодор проживет еще долгую жизнь и, кто знает, может через десять, двадцать и сорок лет он еще будет все так же скрываться в своей пустыньке на острове, выслушивать паломников, и я еще увижу его, когда уже у самой появятся морщины.
Я совсем согрелась, валенки и пальто высыхают около печки. Сижу, сложив руки, и молчу, иногда поглядывая на старца, который не сводит с меня своих глаз. Воск стекает со свечек, и они потрескивают, как и дрова в печке. Тихо.
- Что же это, пришла говорить и молчишь? Всякое слово может быть бытием и делом.
- Не знаю, с чего начать, батюшка… - запинаясь, отвечаю я.
- А с начала и начинай. Все говори. А я слушать буду.
Старец улыбается и мне становится совершенно спокойно.
Алёна Васелькова
Источник изображения: "Музеи России"
Продолжение следует
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.