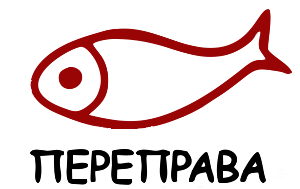Однажды красавица мне говорила
О том, что такое любить:
«Любить – это падать, и в этом паденье
Другого с собой захватить».
Такую любовь я не знал и не знаю,
И знать не могу, не хочу.
Иную мечту о Любви в своём сердце
Я светом надежд золочу.
Любить – самому в высоту подниматься
Тернистою узкой тропой.
Любить – это в райские двери стучаться,
Другого ведя за собой
(архимандрит Исаакий).
Иноку Фёдору сочувствовала вся братия.
С каждым ведь могло такое случиться, но было бесконечно жаль, что случилось это именно с Фёдором, который был образцовым иноком, чуть ли не ангелом во плоти. Но вот оступился молодой инок, и стали думать, что кто его знает, может, всё же рано он принял решение в монахи уйти, в двадцать лет кровь ещё ой как горяча, так ударит в голову, что мало не покажется.
А эта, которая его окрутила, – вот уж кого действительно судить надо. Есть же такие особы, которых хлебом не корми, дай только молодого монаха с пути воздержания сбить. Жаль Фёдора, попался на удочку искусительницы, теперь придётся расплачиваться за это сполна. Сочувствовала братия, вздыхала и ждала сурового приговора настоятеля – игумена Дамиана.
Отец Дамиан отличался волевым характером, он был вспыльчив, но отходчив, резок, справедлив, и его по праву можно было назвать современным подвижником благочестия. Спал он на голых досках, питался сухарями и зелёным чаем, и если бы не игуменский крест, ушёл бы отец Дамиан в леса непроходимые, подальше от глаз людских, и спасался бы там с Божьей помощью. Но архиепископ решил поставить его главенствовать над монастырской братией, и для братии настали поистине суровые времена. Ни вздохнуть, ни чихнуть никто не смел без благословения настоятеля, смирение с послушанием – вот чего добивался игумен от своих чад духовных и строго карал даже за малейший шаг в сторону от этих высоких добродетелей. Лик отца настоятеля – да-да, не лицо, а именно лик, так как на бледном измождённом лице остались только огромные тёмно-карие глаза, точно такие же, с какими пишут святых на иконах, был строг и светел. В свои пятьдесят шесть лет отец Дамиан выглядел на все семьдесят, но причиной тому были вовсе не морщины на лице, коих вообще было немного, а совершенно седые, белее снега, волосы и длинная борода, делавшие его похожим на древнерусского старца. Прихожане монастыря часто так его и называли – старец Дамиан, и, хотя поначалу он очень противился этому званию, спорил, доказывал, что они не правы, потом всё же привык и успокоился. На здоровье же отец игумен никогда не жаловался, а силы в сухоньком батюшке было столько, что хватило бы на десятерых молодых послушников.
Отец Дамиан терпеть не мог разного рода сплетен, которые, увы, нередко встречаются и среди монашествующих, но своих наводчиков всё же имел. Один из таких наводчиков и рассказал отцу-настоятелю про грех инока Фёдора, и не без удовольствия, ибо завидно было шпиону, что настоятель питает симпатию к молодому послушнику, да и тот отвечает ему сыновней любовью. Долго отец Дамиан не хотел верить, пока не увидел несчастного инока на службе. Заглянул тому в глаза и понял, что правда – не соврал наводчик. Глаз у игумена был намётан, чистоту во взгляде он сразу мог отличить от смертельной тоски в глазах оступившегося, тем более что огонёк сладострастия в них ещё присутствовал, правда, слегка затуманенный запоздалым чувством раскаяния. Нахмурился тогда настоятель, помрачнел и наказал Фёдору явиться к нему в келью после Всенощной.
Фёдор весь сжался в комок и, больше не смея поднять на игумена глаз, не в силах вымолвить и слова, только закивал головой, чувствуя, что ещё чуть-чуть – и он разрыдается перед грозным настоятелем.
Всю Всенощную думал Фёдор о дальнейшей своей судьбе, которую определит для него грозный игумен Дамиан. А что если расстрижёт? И не быть ему диаконом, да и не только ведь в диаконстве дело. Расстриженный инок подобен вероотступнику, предавшему не только каноны православные, но и самого Бога. Как с этим жить дальше? Что, если узнает архиепископ и от Церкви отлучит, анафеме предаст? И нарисовалась иноку страшная картинка. Стоит он в игуменской келье, а отец Дамиан с владыкой поочерёдно поют ему страшное: «А-а-на-фе-ма, а-а-на-фе-ма, а-а-на-фе-ма». И келья вдруг превращается в храм, и стоит инок уже перед всем честным народом, и слышит грозные выкрики в свой адрес: «Анафема греховоднику! Анафема вероотступнику!»
Господи, прости! Не знал же он, чем может обернуться его случайная связь с женщиной. Или не хотел знать? Или не мог? Что же это было вообще? Закружило голову, одурманило, наполнило чем-то горячим, терпким, пьянящим, а после разом опустошило, не оставив в душе ничего, кроме горечи и раскаяния. И не было никакой любви, ни симпатии, ни даже увлечения не было, а стало так обидно, что разменял золото целомудрия и чистоты на медяки сладострастия. Говорят, запретный плод сладок, но никто ни разу не сказал о том, каким же он становится горьким сразу после того, как попробуешь, думал Фёдор.
 Всенощная подошла к концу. На дворе было уже темно, когда Фёдор вышел из тёплой, душистой от ладана и свечей церкви и окунулся в холод и тишину, в сырость ранней весны. Небо уже в звёздах, но нерадостно было на душе молодого инока. Ещё голые ветви деревьев сиротливо и скорбно тянутся ввысь, словно молят о чём-то безмолвное небо, и пахнет почему-то не весенней живительной влагой, а печалью погоста да гнилью отбросов, вылезших из-под снега и ещё не убранных монастырскими трудниками. «Вот кому тоже попадёт от отца игумена», – подумал Фёдор, и ему захотелось оказаться на месте трудников, нежели в своём горьком и кажущемся безвыходном положении. «Убьёт меня отец игумен, – подумал Фёдор, направляясь в сторону кельи отца Дамиана. – Ей-богу убьёт! Господи, прости!» Разговор с игуменом предстоит долгий и трудный, а потом… на всё Божья воля. Анафема, значит, анафема.
Всенощная подошла к концу. На дворе было уже темно, когда Фёдор вышел из тёплой, душистой от ладана и свечей церкви и окунулся в холод и тишину, в сырость ранней весны. Небо уже в звёздах, но нерадостно было на душе молодого инока. Ещё голые ветви деревьев сиротливо и скорбно тянутся ввысь, словно молят о чём-то безмолвное небо, и пахнет почему-то не весенней живительной влагой, а печалью погоста да гнилью отбросов, вылезших из-под снега и ещё не убранных монастырскими трудниками. «Вот кому тоже попадёт от отца игумена», – подумал Фёдор, и ему захотелось оказаться на месте трудников, нежели в своём горьком и кажущемся безвыходном положении. «Убьёт меня отец игумен, – подумал Фёдор, направляясь в сторону кельи отца Дамиана. – Ей-богу убьёт! Господи, прости!» Разговор с игуменом предстоит долгий и трудный, а потом… на всё Божья воля. Анафема, значит, анафема.
– Эй, Фёдор, постой! – услышал он позади себя звонкий мальчишеский голос и обернулся.
Его догонял самый младший из послушников двенадцатилетний Гришка.
– Чего тебе, Григорий? Некогда мне! – отмахнулся Фёдор, но Гришка уже поравнялся с ним и, тяжело дыша, сунул ему в руки платок, завязанный узелком. В платке было что-то тёплое, похожее на пирожки.
– На, поешь пока. Отец Гермоген велел передать. Прознал, что на трапезу сегодня ты не останешься.
– Да не до этого мне теперь, – отказался Фёдор. – В горло ничего не лезет. Да и некогда, игумен ждёт.
– А вот и не ждёт. Он трудников сейчас отчитывает, – возразил Гришка. – Не до тебя пока…
«Значит, уже успел… – подумал Фёдор. – Не в духе будет. Да он почти всегда не в духе...» – и сам не заметил, как откусил пирожок. Второй отдал Гришке.
– Ешь.
Гришку упрашивать не пришлось. Он откусил сразу половину и с набитым ртом пробубнил:
– Хо-о-шо, шома-шомо-шо… – и весело ткнул Фёдора в бок.
– Чего???
– Масло, говорю, можно сегодня. Хорошо.
Фёдор только вздохнул. Не до масла теперь. Гришка же, проглотив пирожок, деловито сказал:
– Ты не переживай так. Игумен, он ведь отходчивый, любит тебя. Да и потом, с кем не бывало, – уже совершенно по-взрослому добавил он.
Фёдор даже поперхнулся.
– Это кто же тебе напел такое?
– А что? – не понял Гришка.
– Что со всяким бывало, – повторил Фёдор и дал Гришке подзатыльник.
– Ты чего! – возмутился Гришка. – Ну, не с каждым, но бывало. Сам знаю.
– Много ты знаешь, как я погляжу!
– И ничего не много. Ты знаешь, что Васька-послушник, например, на православном сайте знакомств умудрился объявление развесить?
Фёдор поморщился, а Гришка продолжал:
– Не знаешь. А он когда в канцелярии полы мыл, в Интернет успел залезть. Сказал, что окончательно не решил уйти в монахи, и, если попадётся подходящая девица, уйдёт к ней в мир и женится.
– Вот дурак! – сказал Фёдор. – А отец Дамиан знает?
– А как же, – просиял Гришка.
– Ты, что ли, донёс?!
– И вовсе не я! Его отец-келарь застукал.
– А игумен что?
– А ничего. Оттаскал за вихры да своей палкой пару раз его стукнул.
Фёдор тяжело вздохнул.
– Да не переживай ты, – старался успокоить Гришка.– Тебя не стукнет, тебе ведь не шестнадцать, как Ваське.
– Уж лучше бы стукнул, – возразил Фёдор с горечью.
Так они шли с Гришкой, под ногами похрустывала не протаявшая земля, и сами того не заметили, как оказались перед дверью кельи отца-настоятеля.
– Ладно, я побежал, – сразу перешёл на шёпот Гришка. – Ну, не боись! С Богом!
А Фёдор дрожащей рукой перекрестился и затянул жалобно:
– Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе…
– Аминь! – послышалось за дверью грозное.
 В келье игумена было полутемно. Трудники, видать, уже ушли. Пока келейник возжигал толстые свечи (в посту отец Дамиан старался не пользоваться электричеством) в больших медных подсвечниках, игумен молча сидел в своём кресле как раз напротив съёжившегося в углу комнаты Фёдора, который как вошёл, так и застыл у двери, не в силах приблизиться, забыв даже от страха взять благословение у настоятеля. «Вот был достойный инок, – подумалось отцу Дамиану. – С виду будто ангел, спустившийся с небес, с чистым взором, а поёт так дивно, что заслушаешься. Но и такие не застрахованы от падения. Никто не застрахован».
В келье игумена было полутемно. Трудники, видать, уже ушли. Пока келейник возжигал толстые свечи (в посту отец Дамиан старался не пользоваться электричеством) в больших медных подсвечниках, игумен молча сидел в своём кресле как раз напротив съёжившегося в углу комнаты Фёдора, который как вошёл, так и застыл у двери, не в силах приблизиться, забыв даже от страха взять благословение у настоятеля. «Вот был достойный инок, – подумалось отцу Дамиану. – С виду будто ангел, спустившийся с небес, с чистым взором, а поёт так дивно, что заслушаешься. Но и такие не застрахованы от падения. Никто не застрахован».
Этот день был для настоятеля не из лучших, впервые сильно болела спина, а за Всенощной дважды постигало головокружение. А теперь ещё, увидев перед собой любимое чадо, свою тайную гордость и утешение сердца, столь бесстыдно расточившее бесценное сокровище, вверенное ему Самим Господом, игумен вновь почувствовал себя плохо и с обострившимися враз морщинами на фарфоровом челе испепеляющим взглядом уставился на Фёдора.
Отправив келейника в трапезную, отец Дамиан наконец изрёк долгожданное и зловещее:
– Подойди ближе, Фёдор. Не съем я тебя.
Фёдор упал на колени и припал губами к жилистой руке игумена.
– Прости, отче! Согрешил я…
Отец Дамиан резко одёрнул руку и воскликнул:
– Согрешил! В чём же?!
У Фёдора вспыхнули от стыда щёки, и он ответил еле слышно:
– Седьмую заповедь преступил.
– Что ты всё шепчешь? – прогремел игумен – Стыдно каяться?
– Стыдно, что согрешил, отче.
– Ты, я смотрю, так и не понял ничего, – сказал отец Дамиан уже спокойнее. – Ведь корень твоего греха не в блудной страсти, а в непослушании. Зачем не сказал мне на исповеди, что с бесстыдной девкой разгулу предавался?
И это была правда. После того искушения не нашёл Фёдор в себе сил прийти к духовнику и покаяться на исповеди. Стыдно было, всё откладывал, думал переждать, сам не ведая чего, оттягивал, юлил, но не знал, что игумену уже доложили о его постыдном проступке.
– Прости, отче, – взмолился Фёдор. – Нечем мне оправдаться перед тобой!
– А вот это ты верно говоришь, – согласился отец Дамиан. – Не сможешь теперь ни передо мной, ни перед Богом оправдаться…
Здесь игумен внезапно замолчал, ибо показалось ему, что он пусть невольно, но всё же сравнил сейчас себя с Богом, чуть ли не на одну ступень поставил. Знал отец Дамиан, что поддайся сему чувству целиком – и можно пасть жертвою страшного искуса гордыни, презрев «малых сих» и разлюбивши «нищих духом», а ведь именно эти добродетели он ценил более всего. Но с другой стороны, надо было наказать провинившегося инока, и если не сделать это своевременно, то можно будет навсегда погубить его бессмертную душу.
Нахмурился игумен, встал со своего кресла, подошёл к окну, перекрестился на розовеющий от подсветки Михайловский собор, а затем обернулся на красный угол своей келейки. Чуть слышно потрескивала толстая восковая свеча, теплились у образов лиловые лампадки – постовые. Пламя слегка колебалось, и тогда по строгим ликам иконостаса пробегали тени и блики света, словно святые, слегка приподнимая левую бровь, шептались друг с другом о какой-то высокой тайне, которую невозможно высказать словами земного языка. «Что это за тайна? – подумал настоятель, – быть может, зная её, не пребывали бы мы тогда в губительном мраке неведения, не брели бы на ощупь, почти вслепую, сквозь тернии лжи и фальши к звёздам истины».
«Тайна сия велика есть», – вспомнились ему слова апостола Павла, и казалось, что он сейчас, как никогда, стал близок к её разгадке, как вдруг взгляд его снова упал на застывшего на коленях Фёдора, и, морщась от нового приступа боли в спине, отец Дамиан подумал с острым чувством душевной тоски: «Нет, не откроет Господь Своей тайны, пока монахи будут предавать Его…» Взгляд его сразу стал холоднее, и сухим размеренным голосом игумен произнёс следующее:
– Сознаёшь ли ты, какой позор навлёк не только на себя, но и на всю братию и наш монастырь?!
Под тяжестью этих слов Фёдор склонился ещё ниже, а отец Дамиан продолжал:
– Разве не знаешь, что монашество для мирян почти необъяснимое явление церковной жизни?! И все байки, сплетни, рассказы дружно говорят об одном и том же: о нарушениях иноками и инокинями плотского воздержания, о разврате братии мужских монастырей! И ты, благочестивый инок, позволил себе оправдать все эти сплетни! Да ещё в Великий пост! Как же тебя, чадо, так угораздило! – последнюю фразу игумен уже выкрикнул чуть ли не с отчаянием.
– Не знаю, отче! – пролепетал несчастный инок. – Бес попутал!
– Бес!– вскричал отец Дамиан так, что Фёдор вздрогнул. – Бес его попутал! А скажи, брате, зачем ты решил в монахи пойти?!
Фёдор не успел ничего сообразить, как игумен ответил за него:
– Чтоб этого беса в себе победить, чтобы стать воином Христовым! Для чего Христос пришёл в наш мир?
Фёдор поднял на духовника взгляд, полный мольбы, и неуверенно ответил:
– Чтобы победить мир…
– А точнее, чтобы спасти нас от нас, то есть от себя же самих, – уже спокойнее сказал отец Дамиан, а после добавил: – Встань, хватит мне тут полы протирать.
Фёдор поднялся с колен.
– Вот и получается: если ты воин Христов, то должен полжизни, а то и всю жизнь истратить на борьбу с искушениями плотского и духовного свойства. С пятнадцати лет знаю тебя, как пришёл ко мне послушником, сейчас тебе уже двадцать три, и вот начинаются твои первые искушения, а ты вместо того, чтобы бороться, признаёшь себя поражённым без боя?! Если пока не дал обетов, это ведь не значит, что их преступать можно! А коли преступил – то вот тебе моё слово: расстригу тебя и ступай в мир!
Услышав страшные слова, Фёдор снова упал на колени перед игуменом, прижался к ногам духовника и взмолился со слезами и отчаянием в голосе:
– Молю тебя, отче, не делай этого! Обещаю тебе, что буду впредь блюсти себя!
Отец Дамиан наклонился и, коснувшись рукой головы инока, промолвил:
– Встань…Что теперь на коленях стоять…
А после прибавил сурово:
 – И запомни: трудный путь ты выбрал себе, на котором можешь как спастись, так и погибнуть. Враг теперь знает твоё слабое место, и немыслимая жизнь ждёт тебя, сопровождаемая чудовищными видениями и упорными искушениями плоти. И ничто не может помочь тебе, а только пост, молитва и размышления о Божестве. А теперь ответь на вопрос, который я уже однажды задавал тебе: готов ли ты добровольно возложить на себя тяготы и вериги по своей собственной воле, а не по воле жизненных горестей и бед? Готов ли последовать за Христом и самому нанести себе большее, чем способна жизнь, самому принять муки намного горше тех, что могут тебе сотворить даже недруги твои? Готов терпеть добровольные муки, нужду и трудности ради грядущего Царствия Божия?
– И запомни: трудный путь ты выбрал себе, на котором можешь как спастись, так и погибнуть. Враг теперь знает твоё слабое место, и немыслимая жизнь ждёт тебя, сопровождаемая чудовищными видениями и упорными искушениями плоти. И ничто не может помочь тебе, а только пост, молитва и размышления о Божестве. А теперь ответь на вопрос, который я уже однажды задавал тебе: готов ли ты добровольно возложить на себя тяготы и вериги по своей собственной воле, а не по воле жизненных горестей и бед? Готов ли последовать за Христом и самому нанести себе большее, чем способна жизнь, самому принять муки намного горше тех, что могут тебе сотворить даже недруги твои? Готов терпеть добровольные муки, нужду и трудности ради грядущего Царствия Божия?
Фёдор поднял на игумена горящий взгляд и с готовностью ответил:
– Да, отче… если Господь не оставит меня.
– Не оставит, если сам не отречёшься от Него грехами своими, – промолвил с горечью духовник. – Со следующей недели будешь нести послушание в дальнем скиту, а к причастию подойдёшь не раньше Троицы. – Здесь отец Дамиан внимательно вгляделся в побледневшее (что было заметно даже при свечах) лицо инока, думая, не слишком ли надолго отлучает от причастия, ибо знал, что тяжело жить столь длительный срок без Божественной благодати, но потом всё же утвердился в правильности своего решения.
В скиту Фёдор будет пребывать под неусыпным оком отца Кирилла и жить в суровых условиях, ибо скит только недавно начали восстанавливать, и многие кельи там ещё находились в полуразрушенном состоянии. Лишние молодые работники скиту сейчас ох как были нужны, послушание требовалось полное. Ели там один раз в день, лишь по субботам и воскресеньям разрешалась утренняя (после литургии) и вечерняя трапеза. Лучшего места для умерщвления плоти, чем скит, как казалось игумену Дамиану, было не найти. Жаль, конечно, было ему расставаться с любимым чадом, но он утешил себя надеждой, что, если образумится инок Фёдор и встанет на путь истинный, испросит отец Дамиан благословения у архиепископа, чтобы к зиме постричь своего любимца в малую схиму. Эта надежда вконец вывела игумена из мрачного настроения, и он сказал Фёдору:
– А теперь ступай в трапезную, быть может, у отца Гермогена ещё что-нибудь и осталось для тебя.
– Благослови, отец Дамиан…
Отец Дамиан проводил инока взглядом, а когда за тем затворилась дверь, прошёл во внутреннюю крохотную комнатку – спальню, и остановился у прикроватного столика, на котором лежал его молитвослов.
Устал игумен за день, да и чувствовал себя неважно, и поэтому решил сотворить молитву, а после, наслаждаясь теплом и тишиной убогой комнатушки, улечься спать. Предвкушая долгожданный покой, он взял в руки свой молитвенник в потёртом кожаном переплёте и раскрыл его там, где лежала закладка – широкая лента белого шёлка; он перевернул ещё несколько страниц, чтобы найти вечернее правило, как вдруг из пожелтевших страниц выпала небольшая цветная фотография и легко, подобно осеннему листу, опустилась на вычищенный до блеска сосновый пол. Несмотря на мучающую боль, игумен наклонился и бережно поднял фотографию, на обороте которой витиеватым почерком было написано следующее: «На молитвенную память игумену Дамиану от вверенного ему Господом духовного чада» и далее подпись «Дарья». «Тайна сия велика есть», – снова вспомнились игумену слова апостола, когда он повернул фото лицевой стороной. На него смотрела она – молодая, нельзя сказать что красивая, но очень миловидная девица, круглолицая, сияющая, с озорными зелёными глазами, с тугими косами цвета спелой пшеницы и лёгким румянцем на позолоченных веснушками щеках. Женщины игумен никогда не знал, но тайна сердца у него была. Когда отец Дамиан однажды встретил её в жаркий полдень после литургии на монастырском дворе, то даже невольно зажмурился от того света, который исходил от златокудрой незнакомки. А она, увидев его, тогда только ойкнула, видать, никак не ожидая встречи с суровым старцем-игуменом, затем спешно набросила на голову цветную косынку, подскочила к нему и звонко попросила благословения. Он благословил, а после сказал какую-то фразу, которая очень рассмешила её, и, не выдержав, она прыснула в ладошку, а после убежала от него уже с заливистым хохотом. И не окликнув её, не сделав ей замечания, он так и остался стоять взволнованный и даже немного смущённый, пряча в самый дальний, потаённый уголок своего сердца этот беззаботный девичий смех.
И теперь при виде дорогого сердцу лица в суровом взгляде игумена вновь блеснула едва заметная искорка нежности, строгие морщины на бледном челе разгладились, и даже на щеках проступил едва заметный, робкий румянец. «Золотая моя…» – подумал он с трепетом в сердце и приложил краешек фотографии к тонким губам, после чего снова убрал в молитвослов, вложив её между страницами. На молитвенную память.
Наталья КРАСЮКОВА
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.