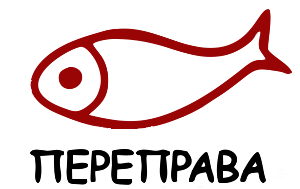В.П. Астафьев
Окончание. Начало см. в №3/2012
Бога скорее и яснее всех чувствуют невинные дети, потому как не знает ещё их маленькое сердце сомнения. Вот хитрованы-большевики и прививали свою веру, как холеру, нам с детского возраста и, отлучив от высшей веры, приблизили нас к низшей, вредной, растлевающей морали, заразили безверьем два или три поколения. А высшая вера – это всегда трудно. Надо быть чистым помыслами и сердцем, постичь немыслимое, отгадать высший смысл веры, пытаться донести до людей то, что постиг ты с помощью Божьей, даровавшей тебе отблеск небесного света, пения, что зовётся небесным, донести как высший дар до других людей».
Обезбоженная жизнь и кончается-то непонятно как: «Неужто Бог берёт к Себе тех, кого любит? – писал Виктор Петрович на сообщение друга об очередной безвременной смерти, которые стали случаться всё чаще. – Говорил ли я тебе о том, что на кладбище, где лежит наша дочь, своей смертью упокоились лишь старики, остальные, как могли, сжили себя со свету».
Среди всех трудов и забот то и дело вырывается у писателя вздох о судьбе Отечества. В марте 2000 года пишет он В. Курбатову: «…загляни во второй номер «Нового мира», там мои заметки о Рубцове, а в общем-то о России и обо всех нас, горьких жителях этой неприкаянной отчизны».
И всё же чувство-мысль В. Астафьева никогда не застревала в тупике, в конечном счёте всегда она поворачивала к преодолению в личном и общественном: «Главная борьба была всегда с собой и за себя, остальное потом, никто за тебя твою работу не сделает и никто не поможет в себе самом разобраться.
Нет у нас запасной родины, нет другой жизни, значит, надобно всё вытерпеть и пережить ради того, чтобы обиходить, спасти эту забедованную, ограбленную, почти убитую землю, на которой нам выпало жить, наладить жизнь, которой наградил нас Создатель, сохранить в себе душу ради того, чтобы во всём и во всех она была века, веки-вечные жива». Несмотря на тревоги и сомнения, сохранял всё же писатель веру в народ: «Русские люди, если им не мешать, и прежде всего дети, способны растопить собой, своей жизнью и вечную мерзлоту, льды, украсить и огласить радостью вечные снега и пустыни, – писал он после одной из поездок в город своего детства – Игарку. – Даже такой могучей карательной силе, каковую держала при себе советская власть, было не совладать с другой силой, народной, которая в конце концов заставила считаться с собой, уважать гонимых ею людей, считать их полноценными членами общества – сила силу ломит, и праведная жизнь труженика всегда перегнёт силу вероломную, дурную, не Богом, а сатаной на землю насланную».
Сила Астафьева-писателя ещё и в том, что он является мыслителем, христианином на генетическом уровне. Недаром же его навещали в его Овсянке даже А. Солженицын, Грэхем Грин; Жорж Нива (автор книг о русских писателях-эмигрантах) два раза приезжал – как он объяснял журналистам – беседовать с В. Астафье-вым. Из Франции. В Овсянку. Беседовать.
И нам тоже любо прочитать слова писателя: «Тот, кто отрывает крестьянина, рабочего, творца от его истинного дела, от работы, есть главный путаник и смутьян, он продолжает звать к борьбе, к походу, стало быть, к разрушению, а спасение России заключено в очень простой и вечной Христовой заповеди: надо всем трудиться в поте лица своего и в труде находить успокоение. Все другие пути мы испробовали – они бесполезны, вредны. Смута, враждебность, грабёж, насилие – это дело революционеров и военных. Мирянину, Божьему человеку, в том числе и литератору, нужен мир, покой и труд».
И с каким же трепетом душевным писатель повествует о созидателях, творцах, на какой бы ниве они ни трудились. Снова и снова пытается он понять (непонимание происходящего не только тягостно, но и вредно для здоровья – духовного и физического) причину несчастий России и прежде всего Сибири – отсутствие контроля за действиями советских военных воротил и их вдохновителей и руководителей в политбюро, которые с восторгом аплодировали и в воздух картузы бросали, любуясь достижениями на море, в небе и прежде всего в космосе, как бы и не замечая, что ради этих достижений в военную печь брошена и сожжена Великая страна – Россия с прилегающими к ней окрестностями, то есть «братскими республиками».
«Теперь эти прожигатели жизни Великой страны и поджигатели холодной войны изворачиваются, тычут пальцами в так называемых демократов – они, мол, разрушили нашу державу, они её распродали. Нет, такую огромную землю, Великий народ в одночасье не загадишь, не надсадишь, не погубишь – на это потребовалось семьдесят лет разбойного, безответственного и преступного правления».
Переехав жить в родную Сибирь, осмотревшись, писатель «убедился, что так обращаться со своими реками, землями и прочими богатствами могут только завоеватели-чужеземцы. А у строителей гидростанций, покорителей небес, рек и морей и лозунги были завоевательские – «Покорим!», «Завоюем!», «Проникнем!», «Освоим!», «Ударная стройка!», «Вперёд!», «Партия велела!».
Партия, она, конечно же, велела, а повелев, не очень утруждала себя думами о том, что из этого веления получится».
Как только и удалось сохранить душу живу в условиях, когда идеологи и мысль «засупонивали», не давали реализовать творческим людям свой талант: сжили со свету А.А. Фадеева, критика Ю. Селезнёва (об их судьбах Виктор Петрович оставил пронзительные строки в т.14 собрания сочинений), и несть числа страдальцам, которых оплакивал он всю жизнь.
Да, несть числа тем, с кем учинила расправу безбожная власть, упорно боровшаяся с интеллектом нации. «В тюремные ямы они бросили Клюева, Мандельштама, Корнилова, Артёма Весёлого, Зазубрина, Князева, Заболоцкого, Смелякова, Ручьёва и множество-множество других…»
В. Астафьев всё старался сказать о тех, кто был обойдён современной им критикой. Кто же, кроме него, так точно подметил у Н. Рубцова «…тоскливое предчувствие угасания Родины – России. Оно у него с годами всё явственней и заунывней звучало, ибо он видел и ощущал, как оголяется, пустеет Вологодчина и как вместе с ним запиваются и дичают на городских просторах вчерашние крестьяне, деревенские устои и семьи, прежде всего, распадаются под натиском малогабаритного городского «рая».
Кто ещё так выделил у Алексея Прасолова дар от частной судьбы прорасти «в общечеловеческие масштабы и предчувствие трагедии во всём таком, что нашим мелким душам и копеечному, обарахлившемуся обществу страшнее всего читать, а тем более пущать в себя такое. Люди, как на пожаре, тянут барахло, машины, дачи, «участки», бьют животных, жгут и покоряют пространства, торопятся, лезут друг на дружку, затаптывают родителей, детей, отметают в хлам и старые морали, продают иконы и кресты, а тут является человек и спокойно спрашивает: «А зачем это?» – и толкует о счастье самопознания, о душевном укреплении, о мысли, как наиболее ценном из того, что доступно человеку, что создало его – человека, и что он должен материализовать в улучшении себя и будущих поколений, а не в приобретении «Жигулей» и тёплого одеяла – для этого никакой мысли не надо, для этого довольно двух хватающих рук. И литература наша вполне удовлетворяет «духовные запросы» потребителя, делает это с нарастающим успехом, что от неё и требуется на «данном этапе».
И растёт не только равнодушие, но и ожесточённость, остервенелость. В 1987 году В. Астафьев пишет: «В Ленинграде!!! Упал на улице Гранин, переломил нос и вывихнул руку – и никто! Никто! На Киевском проспекте не помог ему встать, не подал руку, не потому, что презирает его как писателя, а просто так – не помогли, и всё, как человеку, не зная, кто он и что он, но, на всякий случай, посчитавши его пьяным.
В Перми жил бывший сапёрный капитан, истерзанный фронтом и раненый, жил с батарейкой в сердце 14 лет. Не раз, почувствовав себя плохо на улице, он взглядом отыскивал поблизости место, чтоб прислониться, доставал из кармана лекарства и помогал себе сам, иногда приходилось «выбирать» из прохожих, кого можно попросить, чтоб помогли достать лекарство, ибо сам он уже и этого не может, ему плохо, и он вот-вот упадёт… «Выбирал» старых и молодых, русских и нерусских… И никто ни разу ему не помог, он падал, иногда разбивал себе лицо и нередко слышал голоса возмущённых соотечественников, за которых он на фронте кровь проливал: «Нажрался! Да ещё старик! Да ещё вроде и еврей…»
Какая горькая правда, Виктор Петрович!
И только согревает надежда, что не могут совсем исчезнуть люди, тоскующие по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, что живы мечты о всепрощении, желание любви и истинного братства…
Этой верой по большому счёту пронизаны все Ваши книги!
Да, таким людям и радовался писатель: «Слава Богу, были и есть среди постоянных моих читателей истинные интеллигенты. Какой же заряд бытовой и согревающей энергии исходит от них, как глубоко и деликатно их обращение со словом, как уважительно отношение к труду другого человека.
Их было и есть немного, но кислорода ими в лёгкие общества и творческого, прежде всего, вдыхаемого, ещё хватает, чтобы поддержать мысль и жизнь в России».
Такие вот читатели и укрепляли решимость В. Астафьева держаться. В 1991 году он пишет критику Александру Михайлову: «Видно, время такое, когда ревуны и наглецы получили возможность наораться вдосталь, а наш удел работать, и чем время смутнее, тем больше потребность в тружениках, но не в болтунах».
Как больно переживал писатель выхолощенность жизни: изгонялось-искоренялось всё дорогое православной душе. Поэтому и не оставил писатель без внимания слова великой певицы Надежды Андреевны Обуховой: «Христосовались! Да! Все кряду. Уж такой ли, бывало, золотушный парнишка попадётся, что меня, дворянскую барышню, Боратынского внучку, барыню в кружевах, с души воротит, а целуешься троекратно со всеми кряду, подарки бедные принимаешь и сама даёшь… Куда же денешься? Это же жизнь. Это уважение не только твоё к народу, но и народа к тебе, а его ох как сложно заслужить. Это ведь вы там в современной литературе напридумывали Бог весть что о барах и крестьянах… Не читаю я её. Ложь там, ложь сплошная. Если б по-вашему всё было, так Россия давно бы погибла».
Вот этим духом долго и жили. Каждый честный человек, исследователь ли, признать вынужден: не было такого сиротства ни в годы Гражданской войны, ни Отечественной, как теперь, в якобы мирное время. Сейчас очень много людей, как бы выработавших видимость – имидж – порядочного человека, но душевного тепла не накопивших. Виктор Петрович не раз с болью говорил, что наши так называемые хозяева жизни давно потеряли представление о том, как живёт народ, ибо они живут совсем иначе. Он часто повторял строчки Игоря Кобзева: «Вышли мы все из народа, / Как нам вернуться в него?».
Когда его упрекнули в оторванности от народа, он написал: «От какого? Что касается «моего народа», то лишь в прошлом году я был на восьми похоронах (1994 г.)
Двоих из них сбило машинами, остальные тоже по-всякому кончили свои дни, только старухи умирают своей смертью. Я бы рад от этого народа оторваться, да куда мне? Сил не хватит. И поздно, и места мне в другом месте нету, да ведь и страдаю я муками этого народа».
Когда в народе ещё держался православный дух, то не только родственники, но соседи не отдавали в приюты осиротевших детей. К тому же если до войны человек, выросший в детском доме, мог стать писателем, военачальником, священником, есть тому примеры, то теперь – как утверждает статистика – девяносто пять процентов оттуда сразу поступает в преступный мир, ибо в детских домах, как и всюду, острый дефицит душевности, уж не говоря о духовности.
Долго не могли выхолащиватели выветрить и песенный дух России, долго ещё она звенела песнями, ибо жива была её душа.
В письме к Г. Свиридову В. Астафьев со свойственным ему юмором рассказывает, что на одном из выступлений разговор зашёл о том, какой стала Россия, и весельчак один из зала прислал ему записку: «Россия впрямь другою стала, был Емельян, теперь вот Алла», и замечает: «Было б совсем грустно, если б уж все ушли в «пугачёвщину». Слава Богу, работаете Вы и ещё несколько крупных русских композиторов и не даёте нам совсем одичать и подчиниться дикому и чужому ритму века».
Песенную стихию России писатель щедро отобразил в своих книгах. От жены его дяди (в «Последнем поклоне» Кольча-младший) – Анны Константиновны – студенты-филологи КГУ и сотрудники овсянской библиотеки записали более ста песен.
Всякий раз Виктор Петрович плакал, слушая передачу Заволокиных «Играй, гармонь!», узнавая родное душе, и всякий раз пробовал утешить себя поговоркой: «Другие времена, другие песни», но тут же настигало его иное чувство: «Не хочется соглашаться, не хочется слышать какие-то завыванья на нерусский лад, и вывёртывать горло не по-нашему тоже больно и неловко».
Да, Виктор Петрович, что-то в нашей жизни не так, что-то в ней не даёт русской душе набраться воздуха и запеть. Не поётся… Как евреям в египетском плену во время оно.
Всю оставшуюся жизнь болела в нём война. Как трудно он изживал надсадную привычку к смерти и вынашивал своё слово о войне.
Много о ней книг у нас, очень много, но астафьевское слово ни с чьим не перепутаешь, особенно роман с апокалиптическим названием «Прокляты и убиты». Понять его глубину могут только люди если уж не православные (которым роман легче всего открывается), то хорошо знающие нашу отечественную классику, замешанную на традиционной, т.е. православной, культуре, ибо в романе ставится вопрос о наказании Божьем русских людей советского времени, наказании «по грехам нашим», после «чёртовой ямы», атеистической властью устроенной. Эк «чистили» жизнь от всего духовного! Задолго до перестройки Виктор Астафьев «списывал с рукописных тетрадок у старух всё «божественное», иначе мне взять негде было».
Непосильно простому человеку рассуждать об этой книге: её надо прожить и молиться об авторе, выдержавшем эту Голгофу. И выдержать её помогало убеждение: «Все, кто сейчас воруют, злодействуют и тянут кусок у ближнего, особенно у сирот, всё равно будут наказаны: плохими, неблагодарными детьми, огнём, тюрьмой, болезнями, а добрые люди и в бедности своей, и в печали будут жить, и жить спокойно, встречать солнце и свет дня с радостью и надеждой, и каждый прожитый ими день будет и им, и людям наградой за сердечность и ласку к другим людям, особенно к детям».
Писатель через всю свою жизнь пронёс память о детдомовской тёте Уле, которая «была очень добра и справедлива к нам – к сиротам, и Бог дал ей за это долгие годы, хороших детей и внуков».
И избыть всё, что сотворено войной, можно только с Божьей помощью.
Роман «Прокляты и убиты» вызвал гнев лжепатриотов, гнев людей, давно разучившихся мыслить, гнев ханжей всех родов и, конечно же, некоторых высших чинов, которые были вроде бы на совсем иной войне, чем солдат-окопник.
В первой половине 1990 года В. Астафьев писал своему однополчанину: «Да, я пишу книгу о войне, давно пишу, но не о 17-й дивизии, а вообще о войне. Солдатскую книгу, а то генеральских уж очень много, а солдатских почти нет. Не думаю, что разработки зам. нач. политотдела мне пригодятся. Он наворочает там «правду» из газет, ибо сам-то войны и не видел и не знал, девок в тылу портил да нашего брата-солдата обжирал. Я спросил у Дидыка (полковник, командовавший 92-й артбригадой, скончавшийся в 1990 году в чине генерала в Ленинграде): «Почему мы ни разу не видели нач. политотдела на передовой?» А он мне в ответ: «А на кой он тебе там сдался? Чтоб вы, и без того надсаженные солдаты, строили ему блиндаж в три наката? Чтоб ваш подхалим-старшина последние жиры у вас забрал и ему скормил? Я не пускал его на передовую, чтоб он не мешал вам воевать. Он тут хорошо воевал, при штабе, семь девок обрюхатил и семь орденов за это получил. Больше, чем я, всё время под судом и наблюдением находившийся…»Так что пусть эти комиссары-дармоеды положат свои «героические» разработки себе в гроб.
Я же пишу книгу о том, что видел и пережил на войне, да валяясь в госпиталях, и после войны с голоду подыхал вместе со своей Марьей, тоже сдуру добровольцем на фронт подавшейся. Двух детей похоронили, без жилья, без профессии намытарились так, что на три жизни хватит…»
В 1996 году послал В. Астафьев роман «Прокляты и убиты» другу своему Василю Быкову: «Посылаю тебе книгу, которую ох как нелегко тебе будет читать. Я наконец-то забрался в окопы, в самое их бездонное и беспросветное дно опустился. Ох, как тяжело туда возвращаться и всё пропускать через старое уже сердце, усталое и больное. Хорошо, что были мы там, на этом самом крайнем краю жизни молодыми, многого не понимающими и страху-то по-настоящему не знающими. Сейчас уж кажется, что там был кто-то другой, отдалённо на тебя похожий, – иначе с ума ведь можно сойти, перегружая и без того перегруженную память сверхтяжестями и сверхмуками. Если наткнёшься на ненависть мою открытую на то и на тех, кто нас обманывал, посылавших на муки и смерть, написанную «в лоб», не очень художественно, знаю, ты мне простишь эту святую ненависть.
В 8-м номере «Нового мира» напечатана моя короткая повесть «Обертон»: это снова о нашей погубленной молодости».
Одному генералу в ответ на его письмо «в форме доноса» В. Астафьев пишет: «Мы уж и ложь во спасение прошли, а Вы всё тама», всё ещё врёте себе и другим! А ведь придворный поэт Гавриил Державин писал ещё двести лет назад: «Злодейства землю сотрясают! Неправды зыблют Небеса!» И этого не знаете?! И Пушкина, небось, не читаете, а Лермонтова тем более?! В лени и самоупокоении жить спокойнее, сытее и блаженней, да?!»
И в итоге такое у писателя чувство родилось: «Мне Вас жалко! Мы действительно были на разных войнах и в разных мирах. Мой мир неизмеримо мучительней и прекрасней Вашего, ибо я всю жизнь, изо всех сил стремился к честному хлебу, жил, кормился и детей своих кормил бедным, но честным хлебом правды. Вы ели хлеб с маслом, добытым с помощью притворства и лжи. С тем и умрёте! На моей могиле будут плакать люди и расти цветы, на Вашу могилу будут плевать проходящие мимо «клиенты» и нижние чины».
Другому генералу отвечает В. Астафьев, убеждая не лгать хотя бы самому себе: «Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови». И писатель приводит такие факты, что волосы шевелятся и человеческими силами не осмыслить и не успокоиться, только остаётся надежда на Бога, на молитву: «Все наши грехи нам не замолить – слишком их много, и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души.
Чего и Вам желаю».
Третьему генералу ответствуя, замечает писатель в 1990 году: «Чувствую, что Вы мало читали и читаете, так вот был такой князь Раевский, который на Бородино вывел своих сыновей на редут (младшему было 14 лет!), вот я уверен, что князь Раевский, и Багратион, и Милорадович, и даже лихой казак Платов не опустились бы до поношения солдата уличной бранью, а Вы?!
Ох-хо-хо-ооо, всё же из грязи в князи – никогда ничего не получалось. Я в День Победы пойду в церковь – молиться за убиенных и погубленных во время войны. И Вам советую сделать то же, уверяю Вас, поубудет в вас злобства, спеси, и не захочется Вам подсчитывать «напрасные обиды», нанесённые нашим генералам». Нет таких слов, нет такой молитвы Божьей, которая бы даровала им прощенье за мерзко прожитые дни (хотя бы брежневские), но если вышли б в российское поле, окружённое пустыми русскими деревнями (одна из причин их опустошения – война), если вы встанете на колени и, опустив сивые головы, попросите прощения у Всевышнего, может, Он вас и услышит. Это единственный путь к спасению вашей генеральской души, иначе вам смердеть на свете и умереть с тёмной злобой в сердце.
Вразуми Вас Бог!»
Зато уж солдатам, бывшим на той же войне, что и В. Астафьев, книга доставила горькую радость. Из Свердловской области – г. Ирбит – отозвался инвалид войны Н.В. Бармин, которому читали роман «Прокляты и убиты», ибо сам он уже почти слепой, но «успел ещё пляшущим почерком написать: «Боже! Какую вы глыбу солдатской правды выворотили и на гору в одиночку вывезли. Реквием по убитым русским солдатам».
Из Украины отозвался давний и преданный читатель В. Астафьева В. Миронов: «Внимая «Проклятым и убитым» сейчас, в самом истечении двух тысяч лет по Рождестве Христовом, невольно качаешь головой – да, такая вот «новая эра» у людей получилась. <…> «Прокляты и убиты» – это правда лютая. Это лишь на поверхности книга о прошлой войне, но бьёт она своим кулаком по нашей теперешней морде. И понятно, откуда этот воинственный скрежет духовности в книге, – он вызван тем, что Россия, в начале века катапультированная революциями в тартарары, и все последние после войны полста лет исторгалась из правды, вываливалась из бытия, гибла. В спирали погребального смерча – стоймя стоят! – неупокоенные смерти тех, кого положили на том военном гноище. Мы не победили зло, которое ругалось над жизнью, мы уничтожаемся и посейчас тою же обездушенной неумью, своей и державной, от которой мёрли и мрут люди на всех коммунистических плацдармах великих – от Днепра до Сунжи – рек.
Ужас правды в том, что глотка погубления жизни не была замурована Победой, но, изведав адского государственного зла, всё так же ненасытно глотает и глотает человеческий корм без меры, без счёта!»
Ещё послушаем самого В. Астафьева: «Слепая жестокость» – название всему этому. В истории людской примеров её тьма, да и началась она с чего? Давным-давно, в запредельные времена, тогдашние «большевики» и «нацисты», доведя святого Человека до полного истощения, надругались над Ним и распяли Его на кресте. И вся история человечества, расцвеченная именами инквизиции, колонизации, коллективизации, реформации – не разгул ли это жестокого Зверя! И что спрашивать с наших вояк, Бога не ведающих, воспитанных на призывах к беспощадной борьбе с врагами, выросших в стране, где почитаемый всеми, небесталанный писатель-гуманист бросался преступными словами: «Если враг не сдаётся – его уничтожают», а врагом советской власти и правящей партии сделался весь народ, и она никого так не боялась, как своего народа, и, мстя за страх свой, не понимая своего народа, сводила и сводила его со свету – больше сотни миллионов свела, а у того, который остался, надорвала становую жилу, довела его до вырождения, наделила вечным страхом, воспитала в нём нездоровые гены привычного рабства, склонность к предательству, краснобайству и всё той же жестокости, раба породила. И у нас ли только?»
Радовался В. Астафьев, что даже в нашей прессе – кое в каких случаях очень осторожной – довелось прочитать о том, что в октябре 1991 года в Софии состоялась международная конференция на тему: «О преступлениях коммунизма перед человечеством».
В трудные моменты жизни душа писателя находила утешение в Боге: «Что же и кто же помогал мне в давнем замысле и исполнении его? Память и Господь наш Всезрящий и Всемилостивейший – вот Кто».
В 1985 году он «…побывал у Гроба Господня, где надо бы побывать всем землянам, истинным христианам и просто мечущимся людям, тогда спокойно было бы и на сердце человеческом, и на Земле, нами поруганной».
Побывал писатель и в Греции на острове Патмос, в монастыре, «где написан Иоанном Богословом «Апокалипсис». Лежит эта книжица в пещере, на приступке отёсанного камня на белой салфетке, а вокруг души человеческие безгласно реют и лики в камнях проступают древние, с удивлением и страхом смотрят на нас невинными глазами, и видно по глазам – не узнают уже в нас братьев и сестёр своих…»
Везде и всюду сопровождала его мысль о России, о вреде, причинённом ей атеистическим террором: «Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, Который не раз уже спасал Россию – и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на Него, на Милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит – вести себя достойно на земле, и, может быть, Он простит нас и не отвернёт Своего Милосердного Лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию».
Простит Он нас, Виктор Петрович, простит, ибо по Вашему же собственному убеждению народ русский задуман мирным, а культура его в высших своих проявлениях – родниковой чистоты. И ваше творчество напитано чистейшей родниковой водой классической литературы, вершиной культуры в целом, и не только русской.
Самым ненавистным явлением для В. Астафьева была ложь, пропитавшая все структуры атеистического государства. Особенно возмущён был он двенадцатитомной историей войны: «Если единожды солгавший не может не врать, то каково-то остановиться творцам аж двенадцати томов ловко замаскированной кривды!
Вся двенадцатитомная «история» создана, с позволения сказать, «учёными» для того, чтоб исказить историю войны, спрятать концы в воду, держать и дальше наш народ в неведении относительно наших потерь и хода всей войны…»
Ни в чём не желал писатель мириться с несправедливостью. Уже в 1990 году он повторил попытку добиться реабилитации не только своего рода, но и земляков, овсянцев: «…я хорошо понимаю, – писал он в прокуратуру, – что эти люди, виноватые лишь в одном, что родились и жили в очень «радостное» время построения новой, невиданной ещё нигде и никем «счастливой» жизни под сенью самой «родной и справедливой власти», давно реабилитированы временем и перед Богом, и перед историей ни в чём не виноваты, как и те сто с лишним миллионов советских людей, погубленных во имя нынешнего и будущего неслыханного «счастья» и «процветания» народов нашей зачумлённой страны».
Всё понимая, В. Астафьев, однако, добивается результата: «Мне и моим детям и внукам знать это необходимо, ибо детям жить дальше (сколь будет позволено) и надо знать, из какого корня они произросли – вражеского или всё же обыкновенного, человеческого, крестьянского?»
В 1995 году, увидев в Красноярске вышедшую в краевом издательстве Книгу Памяти, обнаружил писатель в ней фамилии двух родных дядьёв: Василия Павловича Астафьева, которого он описал «довольно красочно в рассказе «Сорока», вошедшем в «Последний поклон»; там же была весточка и о втором дяде – Иване Павловиче 1918 года рождения, который погиб в бою сентябрьском 1942 года и похоронен в д. Самофаловка Волгоградской области. И полетело в те края письмо к знакомому писателю: «Боря! Узнай, если не труд, где эта Самофаловка есть? В каком районе? Сохранилась ли там могила? Есть ли люди, которые доглядывают её? Помоги мне связаться с районом или администрацией села. Душа моя не устаёт болеть о сгинувших солдатах, особенно об этом, горя хватившем через край родном дяде».
Ещё в 1974 году он писал: «…я несу «моральный крест» за всех их, Богом мне назначенный». И, как видим уже, донёс крест до конца: не облегчил, не бросил.
В. Астафьев «поперешен» (его словечко) всему недоброму, злому, лживому, как русский сказочный Иван, которого Баба-яга никак не могла удобно усадить на лопату, чтобы запихать в печь и зажарить, а всё потому, что жила в нём огромная любовь ко всему доброму: к людям, природе, ко всему Божьему миру во всём его многообразии.
Как любил он родные места! «…я если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне…» «И вообще для меня нет красивей реки, чем Енисей».
В 1990 году писал он Евгению Носову о Енисее, как он «…несёт свои широкие воды и вечерами до того красив, спокоен и величав, что со слезами благодарности глядел я на него и верил, что он-то всё-таки будет вечен и переживёт нас, пытающихся его и всё живое на свете изгадить и умертвить».
Безотчётно любил он город Енисейск: «Самый любимый мой и самый жалкий ныне (1979 г. – Ред.) городишко! Что меня влечёт к нему? Зачем? Не знаю. Это вроде как моя любовь к матери – обыкновенной крестьянке, но с такой трагической и пространственной судьбой, что вроде бы уж в Космос прорастает, судьбой, которую и Шекспиру бы не постичь».
Больше всего поражает именно любовь писателя к России, ко всем её уголкам, забота о развитии культуры. Даже в названии составляемого им сборника «Час России» (вышел в 1988 году в издательстве «Современник» тиражом в 20 000 экз.) видится желание охватить её всю, увлечь каждого творца: каждый поэт должен был дать по одному (предполагалось – лучшему) стихотворению.
Кажется, В. Астафьеву была открыта вся культура России. В письме к зауральцам, приславшим ему альманах «Тобол», он хвалит их за творческую жизнь и делится своими впечатлениями о лучшем, на его взгляд, что издаётся в 1996 году: «В Ярославле – литературная газета «Очарованный странник», во Владивостоке – солидный альманах «Рубеж», в Костроме – журнал «Губернский дом», в Новомосковске – журнал «Поле Куликово». «Редактор его – инвалид, с трудом передвигающийся, русский писатель Глеб Паншин, держит два коммерческих ларька, чтобы на выручку от них и с помощью спонсоров – крупных предприятий – выпускать журнал. Героические усилия и неслыханную изобретательность проявляют и в Вологде, и в Томске, и в Улан-Удэ, и в Архангельске, и в Краснодаре, и в десятке других городов, чтобы начать и вести местные газеты, журналы и альманахи.
Как это трудно, как сложно – знаю по нашему красноярскому журналу «День и ночь» и едва дышащему старейшему в России альманаху «Енисей». Я думаю, у общественности г. Кургана достанет ума понять, что накормить народ досыта – дело непременное, большое, но не дать окончательно одичать этому самому народу, поддержать его духовно, помочь разуму и просвещению страны – дело не меньшей значимости и важности».
Много строк у В. Астафьева о языке, помогал всеми силами составителям словарей и всё упрекал себя, жалел, что «мало писал и беседовал о нашем русском языке, подверженном небывалому браконьерству и пагубе от социалистической лагерной действительности; совсем мало писал о театре и музыке, а ведь жил ими, да и существовал, обогащаясь духовно, не впал в скотство и пьянство благодаря им».
Ах как злободневны нынче Ваши слова, Виктор Петрович, сказанные в 1976 году о театре: возмущались Вы, что иные деятели «осовременивают, кастрируют, «переосмысливают» Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Даже дописывают за них! Это уже, простите, наглость самозванцев, именующих себя новаторами. Они ставят себя выше классиков, и дело доходит до того, что восстановленный Борисом Бабочкиным текст «Грозы» становится открытием для публики. Оказывается, шедевр великого русского драматурга кого-то не удовлетворял, и много лет «Гроза» шла «кастрированной» и к ней такой привыкли, её такую «узаконили» на сцене! Стыд-то какой!»
В. Астафьев умел ценить и культуру других стран и континентов. Когда его пригласили в Италию читать лекции о литературе Сибири, он ревниво записывает: а наших людей интересует итальянская литература?
Писатель открыт всему заметному в мировой культуре, и именно он добился, чтобы напечатали перевод романа Трамбо «Джонни получил винтовку» в журнале «Сибирские огни»: «Не прочитав «Джонни», я бы писал по-другому и другой роман о войне». В. Астафьев в письмах советовал очень многим непременно прочитать этот роман, в том числе таким известным критикам, как Александр Михайлов, Валентин Курбатов.
При всех трудностях, заботах В. Астафьев немыслим без юмора. Он у него чисто русский – всё больше над собой посмеивался, никогда ничего не допускал ехидного, глумливого, любил играть со словом.
Вот он пишет В. Курбатову о поэте Василии Емельяненко: «А он, Вася, вон любимой своей по-аглицки письма шпарит, ноты шлёт с собственными сочинениями, ибо попутно с военной академией ещё в консерватории учился. Консервы, стало быть, военные делал».
Ему же сообщает, что, получив заказ написать предисловие к девятитомному собранию сочинений Мельникова-Печерского: «Я сразу вспомнил, что ты с бородой, стрижен под горшок, и подумал, что тебе не чужд этот автор, и согласился, выговорив условие, что будем писать двое, а это значит – писать будешь ты, а я «консультировать».
В письме к Евгению Носову в 1995 году он отмечает: «Ах, какое неподходящее для моей егозливой и весёлой натуры состояние – старость. Как она, милая, угнетает меня.<…> Господь не велит в годах старых забывать о летах своих и о грехах тоже. Иногда тужусь, пущусь в россказни, бурно поведу себя и тут же, как опара в квашне, осяду, устану, давление поднимется, на боковую потянет».
Повествуя в письме товарищу о трагической судьбе двух дядьёв, Виктор Петрович замечает: «…любил я шибче, чем любили их девки».
А то ещё вспомнит он юмор дяди, любителя парной: «Идите, Вихтора зовите в баню, в ей уж покойников мыть можно». Правда, встречается у него юмор и «вперехлёст с сарказмом», как метко заметил его почитатель В. Миронов.
В. Курбатову, например, В. Астафьев пишет, что г. Псков «…давно уж турки не осаждали, и оттого в нём дремлет мысль и угасло любопытство. Да и что говорить о городе, из которого сознательные трудящиеся ездят и ходят в очередя (такое ставит Виктор Петрович ударение) за сосисками за границу, к чухонцам, и едят их, пусть и с идейным отвращением, по необходимости животной, но не выплёвывают же!..»
Так и видишь озорные огоньки в его глазах и открытую его улыбку, и астафьевский задорный смех!
О самом серьёзном он способен сказать с затаённым юмором.
Вот он пишет другу о своей родной Овсянке, которая «стремительно меняет лик свой: место красивое, от города недалеко, на берегу реки. И сносят деревенские гнилушки и воздвигают на их месте особняки, виллы, дворцы. С Енисея, глядя на них, все угадывают, который же из них дворец мой, ибо и в мыслях не допускают, что писатель может и должен жить в деревенской избе, которую я, кстати, всё больше и больше люблю и зимою страшно по ней тоскую. По огороду у меня вырос лес, есть ели и лиственницы уже выше избы, кедр пышный, на пол-огорода растут рябина, калина, берёза, даже пихта есть!»
До самого конца писатель сохранил способность благодарно радоваться решительно всему: «У нас сегодня первый день весны! Лучезарный! Светлый! Капель началась, синички тенькают. Господи! Ещё одну весну подарил Ты мне, всем нам! Спасибо! Спасибо!» – ликует он в письме к товарищу.
Жизнерадостность – это у него родовое, от бабушки, которая всегда всё к свету умела повернуть.
А уж о мастерстве В. Астафьева-рассказчика свидетелей – тьма. Один из его друзей постоянно подтрунивал: «Когда в застолье Петрович – на женщин уж никто не смотрит, все внимают ему...»
А теперь вспомним названия хотя бы основных книг В. Астафьева: «Последний поклон», «Царь-рыба», «Зрячий посох», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду», «Печальный детектив», «Затеси», «Прокляты и убиты», «Обертон», «Так хочется жить!», «Весёлый солдат», «Пролётный гусь».
Все они вроде бы о земном, но незримо тянутся – выходят в небо, если определять их по самому существенному. Названия говорят не только о собственно смысле, но как бы задают тон его книгам.
Оставил нам Виктор Петрович книги свои, чудную библиотеку в Овсянке и там же – храм святителя Иннокентия Иркутского, Литературный лицей, вытребовал для нас Литературный музей, премию свою для поощрения талантов; фонд свой создал для воспитания здоровой спортивной молодёжи, журнал «День и ночь», оставил тревогу и заботу о журнале «Енисей», отстоял литературные встречи – общение неравнодушных творческих людей (даст Бог будут они продолжаться в русской провинции); остановил молевой сплав по реке Мане.
Что ему дало родное Красноярье?
Вот на этот вопрос пусть совесть каждого отзовётся…
Антонина Пантелеева, к.ф.н.
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.